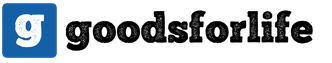Мастер сарказма: что говорил Владимир Набоков о других писателях. Мастер сарказма: что говорил Владимир Набоков о других писателях Критические высказывания набокова о других поэтах
Алексей ФИЛИМОНОВ
В.НАБОКОВ – КРИТИК ПОЭЗИИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ
Изредка происходит очень занимательное, даже несколько смешное явление: чудак-критик подходит к книге без малейшей предвзятости. Таким оригиналам важно только одно: хорошо ли написана книга или дурно. Я бы ни за что не признался, что принадлежу к их числу, - по-моему, гораздо почтеннее состоять в коллективе и честно на него работать.
Владимир СИРИН
«Чистейший звук пушкинского камертона» являлся путеводной нотой, как и для героя «Дара», не только для Сирина-художника, но и критика. Его критические статьи и заметки, своего рода Письма о русской поэзии эмиграции - эстетическая и духовная полемика с веком, оценка, совершаемая на «пушкинских весах» как известных поэтов, так и канувших в Лету: «Критика - наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусств и литературы, – писал А.Пушкин, - Она основана на совершенном знании правил, коими руководствуется художник или писатель в своих произведениях, на глубоком изучении образцов и на деятельном наблюдении современных замечательных явлений.
Не говорю о беспристрастии – кто в критике руководствуется чем бы то ни было кроме чистой любви к искусству, тот уже нисходит в толпу, рабски управляемую низкими, корыстными побуждениями.
Где нет любви к искусству, там нет и критики. Хотите ли быть знатоком в художествах?.. Старайтесь полюбить художника, ищите красот в его созданиях » (А.С.Пушкин – критик. М., 1978, С.246).
Отношения Набокова-критика с поэтами-эмигрантами («Термин эмигрантский писатель отзывается слегка тавтологией. Всякий истинный сочинитель эмигрирует в своё искусство и пребывает в нём», - утверждает Сирин (А.Долинин. Истинная жизнь писателя Сирина. СПб, 2004. С.26) напоминают не шахматную партию, но скорее шахматный этюд, творимый по набоковским канонам гармонии и красоты, иногда нарушаемый «дурой-историей». Старый гроссмейстер, сошедший с ума в берлинской пивной и прыгающий по клетчатому полу ходом коня, словно Лужин, пытающийся вырваться за «скудные пределы естества» (Н.Гумилёв, «Слово») из стихотворения «Шахматный конь» - метафора изгнанничества из материи, подобное тому, которое произошло с лермонтовским пророком, восходит к пушкинскому предостережение о безумстве, постигшем и Батюшкова, критические замечания к элегиям которого оставлены Пушкиным для потомков. «Звуки итальянские! Что за чудотворец этот Батюшков» - пишет Пушкин на полях элегии «К другу» (ПК. С.306). «И лад открылся музикийский / Мне в сногсшибательных ветрах» - писал, словно застигнутый врасплох блоковским ветром эпохи, Владислав Ходасевич, по мнению Набокова, высказанном в Некрологе, «Крупнейший поэт нашего времени, литературный потомок Пушкина по тютчевской линии...». «И музыка, музыка, музыка / Вплетается в пенье моё» (вспоминается «…и другое, другое, другое» в набоковском стихотворении «Слава») – словно заклинал он на пороге эмиграции из России, вслушиваясь в непостижимые, роковые созвучия Тяжёлой Лиры. «Пушкинский певучий вопль (я говорю только о звуке – о лепете первой строки, о вздохе второй), - отмечает В.Набоков в рецензии на «Собрание стихов» поэта, - является как бы лейтмотивом многих стихов Ходасевича. Его любимый ритм – ямбический, мерный и веский (в «Медном Всаднике» Пушкин словно передаёт само переживание ямбической звонкости стиха – «Как будто грома грохотанье – / Тяжёло-звонкое скаканье / По потрясённой мостовой» - А.Ф.). Пусть он местами строг до сухости; неожиданно он захлёбывается упоительным пэоном, острая певучесть перебивает холодноватый ход стиха. Трепетность его хорея удивительна. /…/ Замечательна музыка стихотворения «Мельница». Оно написано правильным и всё же неожиданным, неправильно-прекрасным размером». В другом месте критик писал о неспособности молодых поэтов эмиграцию поднять вослед Ходасевичу Тяжёлую Лиру, завещанную классиками: «Прилежный слух различит, как тютчевский «ветр», пробежав бурной зыбью по лирике Блока и Анненского и последним своим дыханьем распушив крыло музе Ходасевича, - ныне, уже бессильным искусственным отголоском звучит в стихах некоторых современных молодых поэтов». (Влад. Познер. Стихи на случай. 2,663). Несомненно, Набоков считал музыкальную гармонию стиха одной из важнейших его составляющих, да и сама мысль в стихе не может не быть музыкальной. «Вот я прочёл эту книгу, – пишет Набоков в рецензии на «Избранные стихи» И.Бунина, («его удивительные струящиеся стихи» - вспоминает он в «Других берегах» - А.Ф.), - отложил её и начинаю вслушиваться в тот дрожащий, блаженный отзвук, который она оставила. /…/ Музыка и мысль в бунинских стихах настолько сливаются в одно, что невозможно говорить отдельно о теме и ритме. Пьянеешь от этих стихов, и жаль нарушить очарование пустым восклицанием восторга.
В его мире, как и в ритме его стиха, есть сладостные повторения. А мир этот неслыханно обширен... Сам поэт говорит, что он, «как Бог, обречён познать тоску всех стран и всех времён». /…/ Всеми размерами, всеми видами стиха Бунин владеет изумительно… Бунинские сонеты – лучшие в русской поэзии.
Ветром счастья веет от стихов Бунина, хотя не мало у него есть слов унылых, грозных, зловещих… Но не мнима ли сама утрата, если мимолётное в мире может быть заключено в бессмертный – и потому счастливый – стих?» (ССРП. т2. С. 673-676). В одном из ранних стихотворений, посвящённом И.А.Бунину («Как воды гор, твой голос горд и чист», 1920) Набоков присягал на верность мастеру, его художественному миру: «… ни помыслом, ни словом / не согрешу пред музою твоей». Как отмечает А.Долинин, следование И.Бунину явило будущему писателю необходимый простор для развития языка поэзии и необычайно пластичной прозы: «Преклонение перед Блоком сменяется преклонением перед Буниным, менее жёстко-нормативная поэтика которого оставляет больше простора для саморазвития, и поэтому играет для Набокова роль скорее катализатора, чем образца» (Истинная жизнь писателя Сирина. С. 334).
В одной из первых рецензий (на сборник Александра Салтыкова «Оды и гимны») (1924) Сирин употребляет эпитет «великолепно-звонкие стихи». Примечательно, однако, что сам поэт Сирин был лишён той выпуклой музыкальности, свойственной поэзии Блока или Георгия Иванова. Так, в рецензии Германа Хохлова на стихи из сборника «Возвращение Чорба» отмечается то, что потом Набоков сформировал в одном из интервью как ответ на вопрос о собственной поэтике («Отсутствие непосредственности; навязчивость параллельных мыслей, вторых мыслей, третьих мыслей; неспособность нормально выражаться ни на одном языке, если предварительно не составлю каждое проклятое предложение в ванне, в уме, за письменным столом» Пер.М.Маликовой. Pro et contra, 1997, С.159): «Стихи Сирина, при всей свой образности и технической отделанности, производят впечатление подкованной рифмами ритмической прозы. В них много рассудочности, добросовестности, отчётливости и очень мало настоящей поэтической певучести.» (Забавно, что, разбирая в «Письмах о русской поэзии» первый сборник Г.Адамовича «Облака» (1916), Гумилёв словно заострил внимание на набоковском псевдониме, до рождения которого было ещё далеко: «Чтобы сказать о сиринах, ему надо пожалеть их, безголосых:
И сиринам, уж безголосым, снится,
Что из шатра, в шелках и жемчугах,
С пленительной улыбкой на устах,
Выходит Шемаханская царица».
Видимо, для поэта-Адамовича, ставшем выдающимся критиком, музыка в стихах, как и для Набокова, являлась неким подобием полифонии отзвуков и отголосков чужих стихов.)
Набоков противопоставлял принцип «прекрасной ясности» (Мих. Кузмин) той поэтической школе, которая была связана для него с именем Пастернака («чудовищная безграмотность талантливого, но сумбурного Пастернака» (ССРП. Т.3. С.685), а возможно, и Блока, которого он характеризовал как «…превосходного поэта с бестолковым умом… Истинные коммунисты были совершенно правы, когда не принимали его всерьёз». (ССРП. Т.2. С.759). Как отмечает современный исследователь, «для тридцатилетнего Набокова сопоставление собственных стихов с лирикой Поплавского было противостоянием двух поэтик». (Р.Тименчик с.761). «Муза прелестна бедностью» - вспоминается замечание критика и поэта Кончеева в «Даре», когда читаешь рецензию Сирина на книгу Б.Поплавского «Флаги»: «…Трудно относиться к стихам Поплавского серьёзно: особенно неприятно, когда он их начинает расцвечивать ангельскими эпитетами, - получается какой-то крашеный марципан или цветная фотографическая открытка с перламутровыми блёстками. Является даже мысль, не пустая ли это всё забава, не лучше ли Поплавскому попытать свои силы в области прозы? Советовать не берусь, и всё-таки… Как хорошо порой бывает углубиться в себя, свято воздержаться от стихов, заставить музу попоститься… «О, Морелла, усни, как ужасны орлиные жизни…» Вот звучит это – ничего не поделаешь, звучит, - а ведь какая бессмыслица… «Поэзия темна, в словах невыразима», писал Бунин, и здесь критик вослед поэту подходит к области потаённого, где «звуки превыше всего» (Ходасевич). «Стихи прекрасные, но опять то же противуречивые» - отмечал Пушкин нестыковку «звуков сладких» с несколько «тёмным и вялым» смыслом батюшковского послания к Жуковскому и к Вяземскому «Мои пенаты (ПК. С. 313).
За блаженное, бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь, -
писал О.Мандельштам в стихотворении «В Петербурге мы сойдёмся снова» (1920). В «Других берегах» Набоков оглядывается на прошлое, многое переосмысляя: «Я не встречал Поплавского, который умер молодым, дальняя скрипка среди близких балалаек. «О Морелла, усни, как ужасны орлиные жизни…» Его гулких тональностей я никогда не забуду, и никогда я не прощу себе разражённой рецензии, в которой я нападал на него за тривиальные ошибки в его неоперившемся стихе». В романе «Дар» строки стихотворения Кончеева напоминают поэтику безвременно ушедшего поэта:
«Виноград созревал, изваянья в аллеях синели.
Небеса опирались на снежные плечи отчизны… -
и это было так, словно голос скрипки заглушил болтовню патриархального кретина». Быть может, подразумевается пушкинский «продолговатый и прозрачный» виноград для вина любви и вдохновения?
Набоков, в отличие от критиков-интуитивистов («Ибо критики наши говорят обыкновенно: это хорошо, потому что прекрасно, а это дурно, потому что скверно. Отселе их никак не выманишь» - писал Пушкин), предлагал довольно четкие границы и точный инструментарий для оценки современной ему поэзии. Оценивая первую книгу поэта Евгения Шаха «Семя на камне» (1927), Набоков пишет о плодотворности акмеистической, Гумилевской традиции чётких образов и упругих ритмов, о построении стиха по правилам «анатомии», когда «стихотворение должно являться слепком прекрасного человеческого тела» (Н.С.Гумилёв. Жизнь стиха. Письма о русской поэзии. М.1990. С.49). «Евгений Шах выбрал себе учителя Гумилёва. О Гумилёве нельзя говорить без волненья. Ещё придёт время, когда Россия будет им гордиться, Читая его, понимаешь… что стихотворенье не может быть просто «настроением», «лирическим нечто», подбором случайных образов, туманом и тупиком. Стихотворение должно быть прежде всего интересным.
В нём должна быть своя завязка, своя развязка. Читатель должен с любопытством начать и с волненьем окончить. О лирическом переживанье, о пустяке необходимо рассказать так же увлекательно, как о путешествии в Африку. Стихотворение – занимательно, – вот ему лучшая похвала (В Poems and problems, оглядываясь на собственный путь в поэзии, Набоков пишет о своём стремлении воплотить в стихи данную концепцию: «В течение десятка лет, я видел свою задачу в том, чтобы каждое стихотворение имело сюжет изложение (это было как бы реакцией против унылой, худосочной «парижской школы» эмигрантской поэзии…» Пер.В.Набоковой в сб. «Стихи», 1979 - А.Ф.).
В некоторых стихотвореньях Евг. Шаха есть эта особая занимательность. Он, правда, очень молод, у него находишь ужасающие промахи (вроде «пусть ласков свет чужой культуры»), но как хорошо зато стихотворенье «Я видел сон: горячего коня и всадника прекрасного на диво»… или описанье городской весны: "И торцы, как зеркало блестящие, пахнут жарко нефтью и смолой; бабочки летают настоящие над коварной, липкой мостовой» («торцы» акмеистов и Набокова – «И на торцах восьмиугольных всё та же золотая пыль» - «Санкт-Петербург», 1924, - вкупе с бунинской чувственной образностью? – А.Ф.). Особенно удачен… «Бунт вещей» («Вещи каждое утро ожидают события, но высокая мачта Эйфелевой башни никогда не будет готова к отплытию»). Это стихотворение могло бы показаться набоковско-сиринской мистификацией. Легко предположить, что «бедный» Евгений – «самолюбивый, скромный пешеход» (О.Мандельштам), один из лирических гетеронимов Набокова, ожидающий события и спасения в виде отплытия в Индию Духа, «обезумевшие вещи» («Крушение», 1925), или их тени уже готовы тронуться в путь («Кто сможет понять, как мне жалко / Себя и всех этих вещей» В.Ходасевич, «Баллада»), однако мрачная башня – тура, медлит сделать роковой или спасительный ход. Налицо патовая ситуация. «Вечный шах», совпадающий с фамилией автора. Такой же «вечный шах» – послесловия Набокова к рецензиям, едва ли согласившегося бы на ничью как прозаик. Он словно переосмысливает свои ранние жёсткие суждения – о трагически ушедших из жизни Поплавском и Цветаевой (в «Других берегах» называя её «гениальным поэтом»), Раисе Блох, уничтоженной гитлеровцами.
«Дурно пахнут мертвые слова» - писал Николай Гумилёв. Набоков остро ощущал пропасть между стихами Ходасевича и его многочисленными эпигонами, строки которых одеревенелы и мёртвенно статичны при часто заимствованных чуть ли не дословно образах Ходасевича, у которого «…всё было настоящее, единственное, ничем не связанное с теми дежурными настроениями, которые замутили стихи многих его полу-учеников» («О Ходасевиче», 1939). Образ Ходасевича появляется в «Парижской поэме», сразу после его смерти создано стихотворение «Поэты», реквием не только по соратнику и проницательному критику Сирина, но и по всей русской поэзии, уходящей в загробную тень, в «молчанье зерна». Примечательно, что написано от лица молодого эмигрантского поэта Василия Шишкова, не только с целью позлить Г.Адамовича, поддавшего на сиринскую уловку, но чтобы сказать о русских поэтах более глубинно и обобщённо, не только от своего имени. В рассказе «Василий Шишков» происходит встреча вымышленного поэта с его автором, в данном случае двойником Владимира Сирина. Они обмениваются впечатлениями от художественных произведений друг друга, и писатель заостряет внимание читателя на «маленьких зыбкостях слога», например, строки «в солдатских мундирах». Каковой могла быть судьба этих «лунатиков смирных в солдатских мундирах», напоминающих одежду разжалованных в рядовые и казнимых за прежнюю жизнь или просто за факт своего рождения, подобных Цинциннату Ц., мы знаем сегодня.
Полемика Набокова с представителями «парижской ноты» (подробно рассмотренная А.Долининым в работе «Три заметки о романе «Дар»» в кн. «Истинная жизнь писателя Сирина») отражена им в произведении, в частности в главе о несостоявшемся и нелепо ушедшем из жизни Яше Чернышевском, словно заимствовавшем холодные, догматические принципы искусства, смешения его с жизнью, - у символистов, и полную неспособность эстетической самооценки и переработки в творчество живых жизненных впечатлений – у автора романа «Что делать?». «Он в стихах, полных модных банальностей, воспевал «горчайшую» любовь к России, - есенинскую осень, голубизну блоковских болот, снежок на торцах акмеизма и тот невский гранит, на котором едва уж различим след пушкинского локтя./…/ Эпитеты, у него жившие в гортани, «невероятный», «хладный», «прекрасный»… жадно употребляемые поэтами его поколения… Кроме патриотической лирики, были у него стихи о каких-то матросских тавернах, о джине и джазе, который он писал на переводно-немецкий манер: «яц» («берлинский русские выговаривают «яцц», а парижские – «жаз» - писал Набоков в литературных заметках «О восставших ангелах» Т.3.С.685 – А.Ф.); были и стихи о Берлине с попыткой развить у немецких наименований голос, подобно тому, как, скажем, названия итальянских улиц звучат подозрительно приятным контральто в русских стихах… И всё это было выражено бледно, кое-как, со множеством неправильностей в ударениях, - у него рифмовались «предан» и «передан», «обезличить» и «отличить», «октябрь» занимал три места в стихотворной строке, заплатив лишь за два, «пожарище» означало большой пожар, и ещё мне запомнилось трогательное упоминание о «фресках Врублёва»… нет, он не мог любить живопись так, как я». В этом небольшом, как бы глубоко личном впечатлении одного из героев романа о поэзии несостоявшегося поэта – своего рода сжатый отклик на поэзию эмиграции, о темах и перепевах гумилевской лирики, темы его «Капитанов» (сам Набоков не прошёл мимо «морской» тематики и образности, как в стихах – кровать у него «плывёт» на расстрел, эмигрантов он называет «затонувшими мореходами», в эссе «Николай Гоголь он пишет, что на подлинно высоком уровне «…литература обращена к тем тайным глубинам человеческой души, где проходят тени других миров, как тени безымянных и беззвучных кораблей». Пер.Е.Голышевой с.510), жалобы на болезни века, на заморский «яц», на невладение русским ударением (тема, поднятая Пушкиным), неточную, небрежную рифмовку (в «Даре» обращается внимание на «невозможное» «ковёр» и «ср» у Блока). В романе «Дар» виршам Яши Чернышевского противопоставлен сборник Ф.Годунова-Чердынцева «Стихи», основанный на метких, точных жизненных наблюдениях. «…Никак нельзя отрицать, что в пределах, себе поставленных, свою стихотворную задачу Годунов-Чердынцев правильно разрешил. Чопорность его мужских рифм превосходно оттеняет вольные наряды женских; его ямб, пользуясь всеми тонкостями ритмического отступничества, ни в чём однако не изменяет себе. Каждый его стих переливался Арлекином. Кому нравится в поэзии архиживописный жанр, тот полюбит эту книжечку». Похожие наблюдения о свободе ритма с «несвободой» размера – в статье о стихах Ходасевича: «Дерзкая, умная, бесстыдная свобода плюс правильный (т. е. в некотором смысле несвободный) ритм и составляет особое очарование стихов Ходасевича». Интересной в связи с оценкой поэзии Ходасевича работа Ю.Тынянова «Промежуток» 1924 года, где исследователь пишет о стихах из «Путём зерна» и «Тяжёлой лиры», отмечая некоторую непреодолённую зависимость поэта от классического наследия: «В стих, завещанный веками, плохо укладываются сегодняшние смыслы. /…/ Смоленский рынок в двухстопных ямбах Пушкина и Боратынского и в их манере – это, конечно, наша вещь, вещь нашей эпохи, но как стиховая вещь – она нам не принадлежит.
Мы сознательно недооцениваем Ходасевича, потому что хотим увидеть свой стих… (Я говорю не о новом метре самом по себе. Метр может быть нов, а стих стар. Я говорю о той новизне взаимодействия всех сторн стиха, которая рождает новый стихотворный смысл.)
А между тем у Ходасевича есть стихи, к которым он сам, видимо, не прислушивается. Это его «Баллада» («Сижу, освещаемый сверху…»)… это стихотворная записка: Перешагни, перескачи…» - почти розановская записка, с бормочущими домашними рифмами, неожиданно короткая – как бы внезапное вторжение записной книжки в классную комнату высокой лирики…» (в книге «Литературная эволюция». М.2002. СС.422-423). В рецензиях Набоков, кажется, не обратил внимание читателя на стихотворный отрывок, умолчав о нём, однако использовав его как одну из основных метафор к «Дару», где тема ключей, утраченных и обретаемых, развернута на протяжении всего многослойного романа.
Защищая поэзию Бунина от нападок недоброжелателя, Набоков будто обращается к пушкинскому наблюдению: «Истинный вкус состоит не в безотчётном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности» (ПК. С.163). В статье «На красных лапках» Набоков пишет: «Пушкина немало насмешил тот злополучный критик, который по поводу строк «На красных лапках гусь тяжёлый, задумав плыть по лону вод…» глубокомысленно заметил, что на красных лапках далеко не уплывёшь. Увы! С этим зоилом чрезвычайно схож по складу и направлению Александр Эйснер, напечатавший в последнем номере журнала «воля России» забавную свой молодой заносчивостью статью, в которой он силится доказать, что Бунин – не поэт, и что стихи у него плохие, безграмотные, бедные по форме и по содержанию и никуда вообще не годные. Начинает Эйснер с того, что он удивляется, почему так хвалили Бунинские стихи Степун, Ходасевич, Тэффи и нижеподписавшийся… Особенно больно задело Эйснера именно место в моей работе, которое и было рассчитано, чтобы потревожить самодовольство любителей «современности», совершенно не способных понять вечную прелесть бунинских стихов».
Горечи и гневу, безысходности эмиграции Набоков противопоставляет одиночество и свободу (название будущей книги Г.Адамовича), талант, спасающий в изгнании: «Сегодня больше, чем когда-либо, поэт должен быть так же свободен, нелюдим и одинок, как хотел Пушкин сто лет тому назад («Ты царь. Живи один». «Бежит он, дикий и суровый, / И звуков и смятенья полн, / На берега пустынных волн, / В широкошумные дубровы», - «Обитель дольнюю трудов и чистых нег» - А.Ф.), - и если я не требую себе башни из слоновой кости, то только потому, что доволен своим чердаком» (Пер. Т.Земцовой). Как и герою стихотворения «Перед зеркалом» В.Ходасевича, словно продолжающему внимать «чёрной музыке Блока» (Г.Иванов):
Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Вергилия нет за плечами, -
Только есть одиночество – в раме
Говорящего правду стекла.
Словно зазеркальному двойнику Ходасевича, герою «Парижской поэмы», «полупавлиньему существу», в чём-то напоминающему птицу Сирин («Не любил он ходить к человеку, А хорошего зверя не знал»), Набокову пришлось пройти метаморфозы почти немыслимые – «…обескровить себя, искалечить, / не касаться любимейших книг…» Кажется, подобных пересотворений в литературе ещё не знала человечья душа. Пушкинский человек, становящийся «Пророком», обретает «Дар тайнослышанья тяжёлый», - «И внял я неба содроганье, / И горний Ангелов полёт, / И гад морских подводный ход, / И дольней лозы прозябанье», - трансформируя свою речь в иную, Набоков же отказывался от русского языка, от «божественного глагола». Прежде всего, утрачивая связь с поэзией, музыкальной стихией русского Логоса. «Ременный бич я достаю… / И ангелов наотмашь бью» - восклицал Ходасевич, словно пернатые существа утратили его речь, необходимые слова, проводником которых являлись. «Я по ангелу бью, - писал Набоков в Америке, - и уж демон замотан в сетку дымчатую» («Семь стихотворений»). Слово, в отрыве от языка (омоним читателя, носителя слова и речи как таковой), становилось мёртвым словом, «живым мертвецом» - парафразируя грустную блоковскую иронию– по обе стороны границы Советской России. Но Блок, чьи «Итальянские стихи» для Владимира Набокова связаны с одним из самых трагичных моментов в жизни его и его семьи, оставил и жизнеутверждающие, всепобеждающие строки:
Но верю – не пройдёт бесследно
Всё, что так страстно я любил,
Весь трепет этой жизни бедной.
Весь этот непонятный пыл!
«Всё это было, было, было…»
«…Ходасевич для России спасён – да и сам он готов был признать, сквозь желчь и шипящую шутку, сквозь холод и мрак наставших дней, что положение он занимает особое: счастливое одиночество недоступной другим высоты… Завещанное сокровище стоит на полке, у будущего на виду, а добытчик ушёл туда, откуда, быть может, кое-что долетает до слуха больших поэтов, пронзая наше бытие своей потусторонней свежестью – и придавая искусству как раз то таинственное, что составляет его невыделимый признак. Что ж, ещё немного сместилась жизнь, ещё одна привычка нарушена, - своя привычка чужого бытия». «Чужое вмиг почувствовать своим» - писал А.Фет («Одним толчком столкнуть ладью живую…») о том почти невыразимом качестве, которым владеет «лишь истинный певец», идеальный человек искусства, по Набокову: поэт, читатель, критик. В романе «Дар» такой читатель – проекция авторского сознания словно воскрешается из будущего: «Неужто и вправду всё очаровательно дрожащее, что снилось и снится мне сквозь мои стихи, удержалось в них и замечено читателем, чей отзыв я сегодня узнаю? Неужели действительно он всё понял в них, понял, что кроме пресловутой «живописности» есть в них ещё тот особый поэтический смысл (когда за разум зашедший ум возвращается с музыкой), который один выводит стихи в люди? Читал ли он их по скважинам, как надобно читать стихи?». О, эти вертикальные скважины духа!
В рецензии на перевод Сашей Чёрным сказки Р.Деммеля «Волшебный соловей» Набоков писал о тонком лиризме известного сатирика, приотворившемся в переводах: «Стих Саши Чёрного лёгок, катится гуттаперчевой музыкой, - и сказка Деммеля в его переводе веет свежей, чуть дымчатой мягкостью. Всё это лишний раз показывает, какой тонкий, своеобразный лирик живёт в желчном авторе «Сатир»». В статье «памяти А.М.Чёрного» Набоков вспоминал о бесконечной доброте и деликатности, с какой известный литератор отнёсся к вступающему на литературное поприще: «Он не только устроил мне издание книжки моих юношеских стихов («Горний путь». Берлин, 1923), но стихи эти разместил, придумал сборнику название и правил корректуру… Он, конечно, не так высоко их ценил, как мне тогда представлялось (вкус у А.М. был отличный), - но он делал доброе дело, и делал его основательно».
Зачастую оценки Набокова-Сирина не совпадали с чужим мнением или его же - прежними. Однако, своих недоброжелателей-зоилов, Георгия Иванова и Гиппиус он называет «первоклассными поэтами». Набоков отметил первую строку стихотворения Довида Кнута «Отойди от меня, человек, отойди, - я зеваю» как безвкусную, однако Ходасевич высоко оценил не эпигонское, но созвучные его поэзии «мастерское стихотворение», отнеся его к «превосходным вещам» (наблюдение Р.Тименчика):
Отойди от меня, человек, отойди, - я зеваю.
Этой страшной ценой я за жалкую мудрость плачу.
Видишь руку мою, что лежит на столе как живая, -
Разжимаю кулак и уже ничего не хочу.
Отойди от меня, человек. Не пытайся помочь.
Надо мною густеет бесплодная тяжкая ночь.
Он не обратил внимания на стихотворение Г.Адамовича «Что там было? Ширь закатов блёклых…», строки из которых стали классическими:
На земле была одна столица,
Всё другое – просто города.
В раннем эссе «Руперт Брук», ставшем своего рода критической прелюдией, Набоков не всегда точно, по мнению Дональда Бартона Джонсона, интерпретирует творчество поэта-георгианца, приписывая ему повышенное внимание к теме «потусторонности» (Pro et contra. Т.».С.459).
Словно оставляя критическое завещание, Набоков пишет в предисловии к сборнику молодых парижских поэтов и писателей: «Побольше жизни в стихах, побольше любви к впечатлениям живого мира, ко всему тому, что не зависит от литературных и прочих кризисов, – а мода, модные клише, содомы, задушевные сетования, - Бог с ними!»
Набоков-критик предъявлял высокие требования к поэтам-современникам, обращаясь к Пушкину как к проводнику в царство литературы, как Данте – к Вергилию. Наверное, и он мог бы подписаться под пушкинскими строками: «…не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обычно водится» (ПК. С.39). Идей художественных, создающий тот сложнейший синтез музыки и смысла, который именуется поэзией, когда «Слова на месте, и все они звучат. Интонация стиха безукоризненна» - писал Сирин в рецензии на «Беатриче» В.Л.Пиотровского (6,682), словно у Пушкина:
Тут Аполлон – идеал, там Ниобея – печаль…
Художнику, 1836
Набоков и критики
Имя Владимира Владимировича Набокова (1899-1977) стоит особняком среди имен других писателей русской диаспоры зарубежья. В первую очередь это касается его славы, его мировой известности, того резонанса, который вызвали его произведения. Наверное, это признание сравнимо лишь с тем, которое получило творчество Ивана Бунина. «Измерить» набоковскую популярность довольно легко - одна библиография научных и критических работ о нем насчитывает около тысячи страниц . «Объяснить» эту известность тоже нетрудно. Набоков - уникальный случай «билингвизма» в истории русской литературы, он владел английским языком так же хорошо, как и русским. Благодаря этому около половины его произведений написаны на английском языке, включая нашумевший роман «Лолита».
В декабре 1922 года выходит книга стихотворений «Гроздь», а в январе 1923 - стихотворный сборник «Горний путь». Они были подписаны псевдонимом «В. Сирин» - именем одной из трех волшебных птиц славянского фольклора. Приговор большинства откликнувшихся на сборники рецензентов был суров, но справедлив - стихи подражательны и искусственны, несмотря на техническое мастерство их автора. Опасность «чужого слова» для рождения слова собственного в случае с Сириным отметил, например, К. Мочульский : «Но наследие давит своей тяжкой пышностью: все, к чему ни прикасается их живая рука, становится старым золотом. Трагизм их в том, что им, молодым, суждено завершать. Они бессильны пойти дальше, сбросить с себя фамильную парчу. <...> У стихов Сирина большое прошлое и никакого будущего».
Но проницательные рецензенты (например, Ю. Айхеванвальд ) смогли увидеть уже в этих сборниках черты той особой «набоковской» поэтики, которую нельзя спутать ни с какой иной: любопытная звукопись, смелая и неожиданная детализация и т. д. И уже в этих первых сборниках мы видим развитие тем, ставших для писателя своеобразной «визитной карточкой». Это прежде всего тема детства и воспоминаний о прошлом , которой во многом подчинены многочисленные культурные аллюзии сборников (русская поэзия XIX века, средневековая литература и т. д.). Именно прошлое позволяет избежать хаоса настоящего и укрыться в этом прошлом вместе с любимым человеком.
Эмигрантской критикой роман Машенька был встречен доброжелательно. С выходом «Машеньки» Набоков-Сирин обратил на себя внимание как подающий большие надежды прозаик «молодого поколения» эмиграции, хотя многие рецензенты оценили роман весьма односторонне - как добротное социально-бытовое повествование из эмигрантской жизни . Но некоторые указали на те черты поэтики романа, которые впоследствии будут ассоциироваться прежде всего с именем Набокова. Например, Ю. Айхенвальд, написавший две рецензии на «Машеньку», настаивал на том, что содержание книги не исчерпывается лишь реалистическим воспроизведением эмигрантского быта, наоборот, это бытие у Сирина «скорее призрак, тень и фантастика, чем реальность : оно менее действительно, нежели те далекие дореволюционные годы, когда герои жили в России, у себя дома, а не в берлинском пансионе, где свела их судьба и автор. …»16. Эти суждения Ю. Айхенвальда оказались самыми дальновидными. Уже второй роман Набокова-Сирина «Король, дама, валет» (1928) раз и навсегда развеял миф о Сирине как «новом Тургеневе» эмиграции. Более того, начиная с этого произведения стал создаваться и неустанно расти другой миф - представление о Набокове как писателе, которому совершенно безразличны проблемы добра и зла, которого интересует лишь форма и стиль своих книг, который предал забвению реалистические традиции русской литературы, словом, «имидж» писателя талантливого, но «непонятного». Так, эмигрантский критик К. Зайцев в парижской газете «Россия и славянство» делал весьма неутешительные выводы: «С огромной поэтической зоркостью, с исключительным стилистическим блеском автор воспроизводит абсолютное ничтожество и бессодержательность жизни. <...> Герои Сирина - “человекоподобные”. Они физиологически подобны людям, но жуть, исходящая от книги Сирина, именно определяется тем, что это именно лишь подобия людей, более страшные, чем механические гомункулусы. Люди как люди, но только без души. Страшный, фантастический гротеск, написанный внешней манерой изощренного реализма ». Критик очень хорошо подметил этот «внешний реализм» писательской манеры Набокова, который никогда, собственно, и не стремился стать «реалистом». Наоборот, Набокова всегда интересовало то, что спрятано за пеленой видимой «реальности», и эта особая «отстраненность - остраненность» чувствуется уже в первом абзаце романа, где описывается сцена уплывающего вдаль вокзального перрона. Уже в этом отрывке намечается ведущий в романе мотив кукольности, «сделанности» окружающего героев мира, да и сами герои не кто иные, как «король, дама, валет» из колоды игральных карт, ненадолго помещенные фантазией автора в красиво раскрашенный, но безнадежно бутафорский мир.
В глазах критики занимает блистательное, но отдельное положение. Шаховская: с Набоковым нечто блистательное и страшное вошло в русскую литературу.
Он отказывается от некоторых свойств рус лит : дидактический пафос, сочувствие и сопереживание герою, произведение как продолжение жизни. Учебник жизни - так воспринимаются русские писатели. Писатель эстет, элитарный, но читали его очень широко.
... Зачем я вообще пишу? Чтобы получать удовольствие, преодолевать трудности... Я просто люблю сочинять загадки и сопровождать их изящными решениями.
Холодный индивидуалист, ценящий только себя. Но его презрение к толпе, презрение к массовым движениям, его сомнение во всем, что ценят все. Тоталитарный режимы - а его стремление отстоять человеческое я, самодостаточное! Сам по себе. Сохранить себе лицо.
Приглашение на казнь; Облако, озеро, башня; Королек - все об этом. И героев убивают и ненавидят за то, что герой не похож на всех. Восстание против масс! Против подавления человека.
На Набоков человек очень сентиментальный, нежный, но не работает на публику. В основе его эстетизма - стремление довести до совершенства, довести до красоты, восстание против "бега времени" (~роднит его с рус лит). Отсюда и метафизическая жалость к хрупкости человеческого бытия, и создавая идеальные тексты, он пытается преодолеть эту действительность. Предпочитает конкретности любым абстрактностям.
Проблема времени, запечатленние жизни в неком слове, в неком модусе красоты. Проза вырастает из любви, в некотором виде парадоксальной. Пишет, создает словесную конструкцию и не скрывает о том, что создает новую конструкцию. Обнажение авторского лица.
"Ничто никогда не изменится. Ничто никогда не умрет" сходные мысли были и у русской литературы - ходасевич, пастернак и другие.
Набоков предлагает другие правила игры, он предлагает читателю стать альтер-эго автора и смотреть на произведение его глазами. Гиппиус: и так путает, и хочется чего то простого...
Еще в 90-е годы я пытался полюбить творчество "возвращенного" нашему читателю Владимира Набокова. Так и не смог. И на протяжении этих лет размышлял: почему? почему не трогают мою душу "Дар", "Лолита", "Ада" и прочие творения якобы гения русской словесности?
И вот в №5 "Литературной газеты" замечательный критик и культуролог Валерий Рокотов, видимо, помог найти ключ к разгадке собственных впечатлений. Не могу сказать, что все его доводы стали для меня откровением. Часть высказанных в тексте выводов была для меня понятна и прежде. Но автор материала указал на некоторые завязки творчества Набокова, к которым я так и не подошел. По ряду причин.
В общем, очень достойный текст в "ЛГ".
Ледяной трон
ЛИТЕРАТУРА В ЯЩИКЕ
Сказать много и не сказать ничего - странная особенность фильмов, создаваемых о Набокове. Уже сложилась традиция рассказа о классике - ощупывание пыльных реликвий из музейного сундука, прогулка шелестящей аллеей и хроника, где яростная подлая сила готовится к грабежу и насилию… Вот и фильм «Владимир Набоков. Русские корни» («Культура») идеально вписался в формат. Авторы всех этих фильмов словно договорились. Они не желают произнести то, что уже очевидно. Сделаем это за них.
Набоков сходит со своего трона. Коронованный либеральными обожателями, поставленный высоко над советской литературой, он тихо отплывает от нашего берега вместе со своим особенным синтаксисом. Он снова становится эмигрантом, и его творчество снова выглядит чем-то бесконечно чужим.
Трагедия открывает глаза. Она возвращает имена тех, с кем мы связаны единством судьбы, и заставляет трезво взглянуть на тех, кто прыгал клопами по иностранным диванам. Ты вдруг видишь, что изысканная литература насквозь лицемерна и таит в себе зло и что чистое искусство, усыпляя души, намного превосходит напалм. Возможно, для этого трагедия и была послана - чтобы никогда больше так по-детски не попадаться, вознося стилистические красоты над смыслами.
Период царства Набокова оставил крайне неприятный осадок, какой всегда оставляет обман.
Тебе был вполне симпатичен рассказчик, тонкий, влюблённый в Пушкина и Гоголя эмигрант с аристократическими корнями. Ты полюбил его слог. Ты видел в нём истинного интеллигента, лишённого суеты, наделённого трудолюбием и имеющего абсолютное представление об этических рамках. Казалось, такой человек никогда не уронит себя - не опустится до жалких приёмов. Надышавшись воздухом чистой литературы, он произнесёт нечто важное. Ведь критика режимов и революций предполагает философскую высоту.
Когда сын Набокова опустошил все коробки со своим законным наследством, выяснилось, что великий писатель, исписав бездну бумаги, умудрился не сказать ничего. Мир, созданный в его книгах, оказался исключительно миром блёсток и карикатур. Набоков минус стиль равнялся нулю. Он оказался голым королём, который ещё и охотно влез в грязь, заявив, что чистое искусство имеет на это право. Оказалось, что его чувство свободы основано на банальнейшей, постыдной идее, роднящей его с де Садом. В его закатном творчестве проявилось очевидное презрение к человеку, которому он высокомерно бросал свои сочинения. И это многое объяснило в его былом творчестве, казалось, шагающем от победы к победе.
Сегодня, скользя взглядом по корешкам набоковских книг, ясно осознаёшь: в этом нет ни единой подлинной ноты. Здесь всё - имитация, здесь всюду - расчёт и угадывание.
Его ранний, исполненный стилистической свежести роман «Король, дама, валет» - вещь показательная. Там кроткий провинциал садится в поезд и катит в Берлин. Музыка слов бесподобна. Не думаю, что кому-либо по силам тягаться с Набоковым в надежде затмить его языковое звучание. Однако книга восхищает ровно до того момента, когда писатель начинает интриговать. С этой страницы ты погружаешься в кропотливое описание заговора и несостоявшегося убийства, постепенно с ужасом осознавая цель автора, завлекающего солидного покупателя романом, изящным и интригующим.
Но ключом к Набокову служит, конечно, «Дар». В этой книге он отражается ясно. Здесь предъявляется символ ненависти, оттачивается метод и предвосхищается путь.
«Дар» отличает прежде всего карикатура на Чернышевского. Глава о нём - остров в море цветастой и пустой писанины. Набоков усердно пытается вызвать отвращение к Чернышевскому. Он лезет в его частную жизнь, как вор в распахнутое окно. Он ищет, чем бы тут поживиться. (Эта страсть перемывать косточки и жевать сплетни - отличительная черта русского зарубежья.) Он смакует забытый дневник, находя в нём массу пикантного, и перечисляет все гадости, о классике сказанные. Мы узнаём массу безумно важного: как Чернышевский сидел в сортире, чем он страдал и как нелепо питался. Точно подсчитаны измены жены. Всё пронумеровано и слито в книгу. Ничего не упущено.
Эпатажная глава так гадка, что сострадание к герою в финале звучит бесконечно фальшиво. Опережая критику, Набоков сочиняет ряд бледных рецензий, в которых ругают автора, но при этом отмечают его остроумие и талант.
Набоков не только самоутверждается в этой мазне. Он хочет раздавить русского разночинца, виновника своих бед. Он издевается над нелепой гражданской нотой и надеждами на то, что чернь способна взлететь. Чернь способна лишь грабить. Восставший народ не торопится окрыляться и созидать рай. Он спешит к семейному сейфу под предводительством лакея-предателя. В этом набоковское понимание революции.
Объективность мало тревожит автора «Дара». Его не волнует то, что Чернышевский демонстративно отказался от литературности, от эффектных приёмов. Этим признанием просто открывается «Что делать?». Его не волнует то, что это фигура трагическая и в утопии Чернышевского криком кричит человечность. Его не волнует то, что столь куцее понимание революции опровергают крестьянские отроки, прущие в размотанных портянках на белые пулемёты, и женщины-агитаторы, расстрелянные в Одессе вежливыми французами.
Набоков трагедию Чернышевского пытается снять, утопии высмеять, а до понимания революции ему вообще дела нет никакого. Ему нужно долбануть, «трахнуть хорошенько» - так чтобы имя его прозвучало, да ещё всей гадине разночинской аукнулось.
Чернышевский для Набокова - это суровый жрец опасной мечты, звонарь, вызванивающий революцию. Он назначен виновным за то, что произошло: за то, что нет больше дома в солнечной Выре, нет прозрачного леса и душки-помещика, живущего по соседству. Почему-то именно Чернышевский, а не Мор, Кампанелла, Руссо, Сен-Симон или Фурье, во всём этом повинен. Именно Чернышевский с его скромной утопией должен отдуваться за всех.
Философ вообще много чем провинился. Он ведь ещё и отъявленный враг чистого искусства, того самого, которому всецело предан Набоков.
Чернышевский в «Даре» - это жалкий, вздорный старик, чьи взгляды убоги. Читателю ничего толком не объясняется. Просто рисуется карикатура, производится изящный плевок.
При таком подходе получается не повесть, не книга в книге. Выходит акт инвентаризации, список уродств, упорно раздуваемых и совершенно неочевидных. И автором этого чудно выписанного и стыдного сочинения ну никак не может оказаться главный герой «Дара», этот робкий романтик. Это варганил зрелый хищник, изголодавшийся по признанию. Точное понимание целей - вот что выдаёт данный сосредоточенно-беспощадный стиль и грязные технологии успеха, которые в итоге вознесут Набокова на вершину мировой славы.
Он будет шагать к своей цели - шагать через стыд, через ясное осознание того, что, испачкавшись, теряешь моральное право на осуждение режимов и революций. Описав в звонких рифмах акт мастурбации, пропев песню о педофиле, увлёкшись «эротиадой», ты заявляешь о себе как о торговце, продающем эстетический эпатаж, и можешь отстаивать лишь одно право - право уподобиться зверю. Ты можешь кричать лишь о том, что всякий режим, не позволяющий тебе обрасти шерстью, ужасен.
Направляясь во двор с рукописью «Лолиты», приговорённой к сожжению, и поворачивая назад, Набоков будет что-то в себе доламывать. Он будет дотаптывать в себе русского интеллигента, глушить его голос, его раздражающее ворчание. Он будет чувствовать на себе тяжёлый взгляд классиков и отстреливаться иронией и издёвкой. Он будет вполне понимать, что содержание в литературе неотменяемо, и будет неустанно заполнять пустоту своих книг облаком блёсток, невыносимой детализацией, и это разовьётся в полноценный невроз.
Есть ингредиент, за вычетом которого нет литературы. И этот ингредиент - глубина. И сколько бы автор ни вливал в свою книгу изысканности, всё равно создаваемый текст остаётся чем-то не вполне достойным человеческого ума.
Отмахиваясь от этого обстоятельства, Набоков примет позу и начнёт нести агрессивную чушь, и чем больше слов он произнесёт, тем очевиднее будет шаткость его позиции.
Его лекции по литературе поверхностны и лукавы. Видно, как он вбивает в юные головы чисто эстетские установки. Видно, как он постоянно оправдывает и утверждает себя.
Его удары по Достоевскому показательны. Набоков нападает на него с тем остервенением, с каким дефицит мысли нападает на бездну сознания. Он ополчается на то, что от него скрыто. На то, во что он не желает вникать. Скучно всё это, господа, да и утянет ещё, чего доброго, в такие дебри, из которых не выберешься, - где нагрузят сознание, оживят чувство долга, изменят мировоззрение и отнимут покой. Зачем это нам, пламенным энтомологам? Бежать от этого, отстреливаясь залпами бронебойной иронии!
«Всё это изложено достаточно путано и туманно, и нам ни к чему погружаться в этот туман», - так «разоблачается» Достоевский. И как-то неловко становится за разоблачителя, уходящего от серьёзного обсуждения, соря´щего мелочью и упрекающего автора былого столетия за его стиль.
Иногда Набоков даёт понять, что философски подкован, бросаясь словечками типа «гегелевская триада» или упоминая вскользь Фейербаха. Но отчётливо видно, что эта область знаний для него - ненужный, противный своей заумью, своим вечным поиском мир. Он отмахивается от него, прячась за удобную формулу: «Искусство должно не заставлять думать, а заставлять трепетать». И этой мантрой отвращает читательскую паству от мыслящей литературы (по нему - «дребедени»), призывая: не думайте, наслаждайтесь, впадайте в трепет от слов! Он нападает на мысль, которая всегда очаровывала и питала искусство, на ту самую мысль, которой изливается жизнь.
Нападки Набокова на Достоевского - это критика органиста флейтистом. Мощь акустики, масштаб замыслов, очевидный метафизический драйв - вся эта нависшая громада пугает, бесит своей серьёзностью, своим взыванием к сложности, вере и состраданию. Всё это заглушает твой трепетный перелив, вселяя чувство ничтожности. Поэтому Набоков не спорит с сумрачным классиком, а пытается отменить его, «развенчать». Неслучайно рвал его книги перед студентами. Для него философия Достоевского - лишь бред разгорячённого и явно нездорового разума. Его доводы смехотворны. Он лупит по слабым местам Достоевского, которые всем видны и которые ему живой читатель прощает, при этом почти не упоминая о сильных. Просто нет никакого такого явления в литературе, никакого феномена. Нет бездны человеческого сознания, нет великой драмы души. Есть сплав безмерной сентиментальности и детектива, почерпнутых из западной литературы. И всё. И это утверждает интеллектуал. Тянет ответить: иди-ка ты лучше, барин, лови своих бабочек.
Набоков всегда чурался типичности, но оказался типичен. Его взгляд на искусство - это позиция типичного аристократа, которую никакие мировые катаклизмы не способны поколебать. Это надменное ледяное спокойствие, иногда взрываемое воспоминанием о том, что шелестящий рай безвозвратно утерян, изгажен денщиками и коридорными.
В редкие минуты Набоков выходит из равновесия - когда вспоминает о большевиках. Он, конечно, слишком умён, чтобы негодовать от имени класса изгнанных феодалов. Поэтому бьёт другим. Он тонко бросает: вы материальны, вы строите мещанское общество. Это справедливый упрёк, и Набоков в итоге оказался провидцем. Но ведь так было не сразу. Перед тем как расплескаться по карте мещанским болотом, этот ненавистный, осмеянный им режим воссоздал Россию в невиданном доселе величии, сохранил народ и выиграл войну с фашизмом - то есть сделал всё, чтобы Набокова было кому читать.
Хорошо бы об этом помнить всем, даже тем, кто, послал всё к далёкой матери и обрёл своё счастье в искусстве петь.
Сегодня ясно осознаёшь, что именно отсутствие содержания и сделало Набокова Набоковым. Он целиком растворился в изяществе, всю творческую энергию направив на извлечение звуков. Звуком, нотой он в итоге и стал. Если бы содержание было, это был бы другой писатель, возможно, явивший миру что-то абсолютно неслыханное. Но вышло иначе. Вместо подлинной драмы и глубины явлен был симулякр - светлая ностальгия по ушедшей России, запечатлённой детским сознанием, эта чрезвычайно удобная ниша мировоззрения, позволяющая рисовать себя кем-то и не вдаваться в дискуссии. А под занавес к привычному негодованию по поводу русских революционеров прибавился свод торжественных PR-принципов, салютующих новой родине и звучащих, как текст присяги.
Сегодня, читая Набокова, ловишь себя на мысли, что даром теряешь время. Тебя быстро усыпляет журчание его текста, текущего неторопливым потоком и начисто лишённого смысла. Ты вполне понимаешь, что стояло за его коронацией. Набоковым, его высотами стиля и звонкими оплеухами классикам долбали не только по советскому хилиазму. Он оказался идеальной машиной оглупления, крайне важной для нового, постмодернистского общества. Неслучайно постмодернисты смотрят на него, как на бога.
Набоков мечтал увидеть Россию, где издан «Дар». Он не дожил до этого счастья, но нам вполне повезло. Мы увидели страну, где погасли звёзды и просветлённая, обладающая безупречным вкусом элита обнажила клыки. В этой стране восславили всех, кто тащил в культуру Танатос и от кого культура защищалась с помощью советских властей, действующих то мудро, то тупо.
Эта страна отвела своё культурное поле под мусорный полигон. Она увлеклась магазинами, отринула смыслы и исполнилась высокомерной, презрительной, неслыханной пустоты. В пропаганду этой пустоты включилась вся продвинутая тусовка. Целая орава творцов с антисоветской ржачкой, с полными ртами танатальных стихов, с эпатажем и гимнами эстетизму впряглась в процесс и потащила страну, созданную огнём истории, в холод и лёд, в энтропию и гибель.
Они уже почти победили, почти сковали всё льдом, когда что-то произошло. Негромкая, беспафосная мелодия вдруг воскресила память о тех, кто воевал и любил, и живые слова сквозь толщу цинизма и карнавального гама пробились к сердцам из потрёпанных книг. И зашатались хрустальные троны, и повеяло кострами весны.
Валерий РОКОТОВ
О Федоре Достоевском. В своих лекциях о русской литературе Набоков так писал о Достоевском, которого страстно не любил: «Я испытываю чувство некоторой неловкости, говоря о Достоевском. В своих лекциях я обычно смотрю на литературу под единственным интересным мне углом, то есть как на явление мирового искусства и проявление личного таланта. С этой точки зрения Достоевский писатель не великий, а довольно посредственный, со вспышками непревзойденного юмора, которые, увы, чередуются с длинными пустошами литературных банальностей. В «Преступлении и наказании» Раскольников неизвестно почему убивает старуху-процентщицу и ее сестру. Справедливость в образе неумолимого следователя медленно подбирается к нему и в конце концов заставляет его публично сознаться в содеянном, а потом любовь благородной проститутки приводит его к духовному возрождению, что в 1866 г., когда книга была написана, не казалось столь невероятно пошлым, как теперь, когда просвещенный читатель не склонен обольщаться относительно благородных проституток. Однако трудность моя состоит в том, что не все читатели, к которым я сейчас обращаюсь, достаточно просвещенные люди».
О Борисе Пастернаке. Один из самых нелюбимых романов Набокова был «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Любопытно, что именно эта книга в США стала соперником «Лолиты» по тиражам и всевозможным литературным рейтингам – собственно, для Владимира Владимировича это стало еще одним поводом обрушиться с критикой на прозу своего соперника. Он говорил: «“Доктор Живаго” - это недалекий, неуклюжий, тривиальный и мелодраматический роман с шаблонными ситуациями, сластолюбивыми юристами, неправдоподобными девицами и банальными совпадениями. Словом, проза Пастернака далеко отстоит от его поэзии. Что же касается редких удачных метафор или сравнений, то они отнюдь не спасают роман от налета провинциальной банальности, столь типичной для советской литературы».
О Николае Чернышевском. В своем романе «Дар» Набоков целую главу посвятил Николаю Чернышевскому и, в общем, высмеял образ революционно настроенного писателя. Не будем приводить долгих цитат – однажды автор «Лолиты» так охарактеризовал создателя романа «Что делать?»: «Философски подслеповатый и художественно бесслухий пачкун».
Об Иване Бунине. Талантливые авторы редко любят друг друга – мешает соперничество. Этот тезис отлично подтверждает история отношений Ивана Бунина и Владимира Набокова. В молодости Набоков боготворил маститого писателя, и даже как-то прислал ему собственную книгу с подписью «Великому мастеру от прилежного ученика», однако позже отношения испортились, и автор «Лолиты» величал Бунина не иначе, как «старой тощей черепахой». Впрочем, создатель «Темных аллей» никогда не оставался в долгу, и при любом случае критиковал Владимира Набокова за огромное самомнение, однако не мог не отдавать должное его таланту. Известно, что как-то он сказал про него: «Чудовище – но какой писатель!». В последние годы жизни Бунин продолжал ревностно следить за творчеством Набокова, и сделал в дневнике следующую запись, характеризуя творчество своего вечного конкурента: «Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня».


Об Иване Тургеневе. Набоков очень хорошо относился к творчеству Тургенева, хотя, впрочем, не считал его идеальным: «Как и большинство писателей своего времени, Тургенев всегда излишне прямолинеен и недвусмыслен, он не оставляет никакой поживы для читательской интуиции, выдвигает предположение, чтобы тут же скучно и нудно объяснить, что именно он имел в виду. Тщательно выписанные эпилоги его романов и повестей кажутся до боли искусственными, автор из кожи вон лезет, потакая читательскому любопытству, последовательно рассматривая судьбы героев в манере, которую с большой натяжкой можно назвать художественной. Он не великий писатель, хотя и очень милый».
О Максиме Горьком. Отдавая дань пьесе «На дне», Владимир Набоков все остальное творчество Максима Горького ценил весьма низко. Он так писал о его прозе: «Заметьте, что схематизм Горьковских героев и механическое построение рассказа восходят к давно мертвому жанру нравоучительной басни или средневековых «моралите». И обратите внимание на его низкий культурный уровень (по-русски он называется псевдоинтеллигентностью), что совершенно убийственно для писателя, обделенного остротой зрения и воображением (способными творить чудеса под пером даже необразованного автора). Сухая рассудочность и страсть к доказательствам, чтобы иметь мало-мальский успех, требуют определенного интеллектуального размаха, который у Горького напрочь отсутствовал. Чувствуя, что убогость его дара и хаотическое нагромождение идей требуют чего-то взамен, он вечно выискивал сногсшибательные факты, работал на резких контрастах, обнажал столкновения, стремился поразить и потрясти воображение, и поскольку его так называемые могущественные, неотразимые рассказы уводили благосклонного читателя от всякой объективной оценки, Горький произвел неожиданно сильное впечатление на русских, а затем и зарубежных читателей».

Об Иосифе Бродском. В 1969 году издатель Карл Проффер послал Набокову в Монтрё поэму Иосифа Бродского «Горбунов и Горчаков». В ответ жена Набокова, Вера, прислала ему письмо, записанное со слов писателя: «Спасибо за ваше письмо, две книги и поэму Бродского. В ней много привлекательных метафор и красноречивых рифм, но она грешит неправильными ударениями, отсутствием словесной дисциплины и, в целом, многословием. Однако эстетическая критика была бы несправедлива ввиду кошмарных обстоятельств и страдания, скрытых в каждой строке этой поэмы».
Во время горбачёвской Перестройки и последовавшего за ней президентства Б.Н.Ельцына отечественные читатели впервые получили свободный доступ к зарубежной русскоязычной литературе. В эти годы на постсоветском пространстве большими тиражами были изданы произведения Владимира Владимировича Набокова (1899-1977). В обстоятельных монографиях и в многочисленных статьях о Набокове говорили как о гении русской и американской литературы.
Творческое наследие Набокова, написанное на русском и с 1940 года на английском языках, очень велико. Оно включает поэзию, драматургию, прозу (романы, повести, автобиографические произведения), статьи (в том числе о системе ударений-просодии в русском стихе, о найденных им редких экземплярах бабочек), лекции по русской литературе и филологии, шахматные этюды и задачи. Почитателей Набокова поражает творческая многогранность, большая эрудиция, мастерское изложение психологии персонажей, восхитительные описания природы, трепетная передача ностальгического чувства, рациональное и органичное построение произведений. Во многих отзывах о творчестве Набокова отмечено ощущение соприкосновения с ярким талантом, с мощным интеллектом, с интересным большим мастером художественной литературы.
Встречаются и критические отзывы. Запомнилось эссе Э.В.Лимонова: „Читать (книги Набокова – Т.Ф.) тяжело. Временами в них присутствуют искры гениальности, но они подавлены потухшей золой... Обычные эмигрантские романы... (“Священные монстры“. М. Изд.“Аd Margineum“. 2000; с.61). Признаюсь, Набоков и у меня „не пошёл“. Что-то мешало безоговорочно принять его творчество. Перечитал доступные издания Набокова, но чувство отторжения стало более отчётливым. Тогда, выдержав длительную паузу, с карандашом в руке снова начал читать книги Набокова, специально выбирая те, которые были им написаны по-русски или им же переведены на русский язык. И постепенно смог определиться в своём неоднозначном восприятии его творчества.
Литератор бывает востребован, если его творчество ярко и глубоко освещает проблемы и потребности своего времени, даёт новое, поражающее воображение истолкование давним событиям или проницательно предвосхищает будущее. Литератор, выражающий идеи, до тех пор неуловимо или смутно и неопределённо дремавшие в глубинах общественного сознания, становится светочем, выразителем духовности народа. Тогда его провозглашают гением. Выступая в 2000 году на 67-м Конгрессе ПЕН-клуба в Москве, немецкий писатель лауреат Нобелевской премии Гюнтер Грасс, подчеркнул, что значение литератора неразрывно связано с его гражданской позицией. Нередко писатель, подчиняясь творческому импульсу, вступает в конфронтацию с общепринятой или официальной точкой зрения или подобно Дж.Оруэлу опережает свою эпоху.
Первая мировая и Гражданская войны разрушили устоявшийся уклад и изменили жизнь России. Они же оказались судьбоносными и для клана Набоковых. Отец писателя Владимир Дмитриевич (которого В.В.Набоков, если верить „Другим берегам“ и „Дару“, восторженно любил и считал образцом для подражания) безоговорочно противостоял красным, войдя в Крымское правительство Врангеля. Он погиб в 1923 году, закрыв своим телом от пуль террористов одного из видных деятелей русской белой эмиграции П.Н.Милюкова. Его двоюродный брат и близкий друг детских лет Юрий Рауш фон Таубенберг в 1920 году пал в бою, отважно бросившись на пулемёт красных. Но В.Набоков-младший, юноша призывного возраста, хороший наездник, стрелок и пловец, умеющий фехтовать и боксировать, предпочёл не участвовать в борьбе белых и красных.
Категорически не принадлежа к сторонникам Белого движения, я не могу понять ту сдержанность, ту поразительную отстранённость, с какой Набоков не только не пытался внести свою лепту в события, потрясшие отечество, но даже как бы не пожелал их заметить. В этом можно заподозрить нечто двусмысленное и недостойное. Кое-кто из биографов объясняет поведение Набокова предвидением своего блестящего будущего. Это объяснение лишено основания. Первые стихи Набокова были беспощадно раскритикованы именитыми литераторами-современниками, причём педагог В.В.Гиппиус (кузен поэтессы З.Н.Гиппиус) без обиняков посоветовал юному автору искать себе нелитературное поприще.
„Аполитичность Набокова вызывала удивление“ – замечает Стейси Шифф („Миссис Владимир Набоков Вера“. М. Изд. „Независимая газета“. 2002; с.104). Удивительным образом эпохальные события века, величайшее бедствие страны, даже трагедия своего класса, по существу, не отразились в его русскоязычном творчестве. Ну разве что небольшая повесть „Подвиг“. Её герой, комплексовавший по поводу незначительности своей персоны в сравнении с воевавшими в Гражданскую войну офицерами Белой армии, намерен самоутвердиться. Для демонстрации своей храбрости он решил на один день (туда-сюда) с риском для жизни нелегально перейти границу Советской России... и пропал без вести.
„Я никогда, никогда, никогда не буду писать романы, которые решают современные проблемы или отображают общественный интерес“ – писал В.В.Набоков своему нью-йоркскому литературному агенту А. де Джоннели в 1938 г. Не проникся Набоков и сочувствием к перманентно тяжёлому положению русского эмигрантского сообщества, описывая, в сущности, свои индивидуальные проблемы. Его герои существуют вне времени. События его романов могли бы происходить и до мировых войн, и в промежутке между ними, и в послевоенное время.
Какие впечатления вынес он из первого двадцатилетия эмиграции? „Оглядываясь на эти годы вольного зарубежья, я вижу себя и тысячи других русских людей ведущими несколько странную, но не лишённую приятности жизнь в вещественной нищете и духовной неге, среди не играющих ровно никакой роли призрачных иностранцев, в чьих городах, нам, изгнанникам, доводилось физически существовать...“ („Другие берега“). Но именно в эти годы Германия пережила неудавшуюся революцию 1918-1919 гг. и послевоенную разруху с небывалой инфляцией и повальной безработицей, фашистский путч 1923 г., кризис 1929-1933 гг. и приход Гитлера к власти, антиеврейские законы и акции (а жена Набокова еврейка!), и заключительный аккорд этого периода – „Хрустальную ночь“ с 9 на 10 ноября 1938 года. В творчестве Набокова не нашли отражения события Второй мировой войны, если не считать написанного по-английски короткого с безликой концовкой рассказа „Образчик разговора, 1945“ по поводу прогерманских настроений эмигрантских кругов в США.
А.Сёмочкин отмечает глубокий психологизм набоковских романов, глубинный пласт которых полагает близким творчеству Пруста и Кафки („Bладимир Набоков“. СПб. Изд. „Летопись“. 2010). Однако же его тематический выбор воспринимается с подспудным внутренним сопротивлением. Основные темы его произведений: педофилия, адюльтер и лишь за ними чудесные описания природы (особенно северорусского Оредежья), шахматы и бабочки. „Романы Набокова заполнены жеманными, соблазнительными, малолетними, похотливыми и холодными секс-бомбами“ (С.Шифф, с.230). Таким образом, разве что в предвидении сексуальной тематики, ныне заполонившей СМИ, его гений получил абсолютное подтверждение.
Отчётливо ощутимая холодная созерцательность, подчёркнуто аналитическое, лишённое сопереживания описание персонажей и скрупулёзно вывереная, но вместе с тем удручающая и отталкивающая детерминированность их поступков является характерной чертой творчества Набокова. Так в „Даре“ Набоков пишет о своём герое: „он сам замечал в себе эту странную заторможенность отзывчивости“ (курсив мой – Т.Ф.), что вполне можно отнести и к самому автору. „Спустя десятилетия русские коллеги Набокова недоумевали, есть ли у него душа, а если есть, то почему он так тщательно это скрывает“ (С.Шифф, с.101). И.А.Бунин называл Набокова „чудовищем“, имея ввиду бесстрастное, холодное отношение к своим героям (В.Левин. „Странный дар“. Предисловие к кн.: В.Набоков. „Камера обскура“. М. Изд. „ОЛМА-ПРЕСС“. 2000). З.Шаховская отзывалась о Набокове, как о „холодном судье“ („В поисках Набокова. Отражение“. М. Изд. „Книга“ .1991).
И.Толстой отмечает, что „некоторая „зажатость“ вообще характерна для Набокова: не только Алексей Кузнецов (персонаж из неоконченной пьесы „Человек из СССР“ – Т.Ф.) ничего не делает, но это ничегонеделание есть объект постоянного набоковского наблюдения. В его книгах нет динамики.“ („Набоков и его театральное наследие“; в кн.: „Владимир Набоков. „Пьесы“. М. Изд. „Искусство“. 1990; с.5). Тут же приведу и высказывание Лимонова: „У него нет доминирующей темы... Увы, Набоков всё-таки второстепенный писатель“ (с.61). Сказано по-лимоновски категорично. Конечно же Набоков крупный и в затронутых им темах интересный, глубокий, зоркий писатель.
Русская (русскоязычная) литература проникнута выраженным сопереживанием своим персонажам. На этой высокой ноте мы, её читатели, воспитаны. Холодная наблюдательность, подчёркнутое дистанцирование от описываемых действующих лиц предлагает и читателю подобное к ним отношение. Можно с отстранённым любопытсвом наблюдать душевные метания Гумберта Гумберта („Лoлита“), но сочувтвовать ему... увольте! Именно это отсутствие живого, трепетного отношения к свому герою очевидно является одной из причин моего сдержанного отношения к творчеству Набокова.
В.П.Аксёнов как-то заметил, что „литература – всегда ностальгия,... тоска по прошедшему времени“. Набоковская ностальгия именно тоска по прошедшему времени, по утраченному благополучию и покою. „Всё, о чём мы пишем, написано по личному поводу, а другой литературы не бывает“ (А.Кушнер „От автора“. В кн.: „Апполон в снегу. – Заметки на полях“. Л. Изд. „Cоветский писатель“. 1991, с.7-8). Ностальгическое чувство Набокова эгоцентрично, приправлено обидой на страну, ставшую большевистской и отказавшую ему в признании. Оно обращено исключительно к чарующей русской природе, к некогда весьма благополучным условиям жизни в России, обусловленным богатством аристократического рода, но никак не к соотечественникам и их проблемам, их духовному богатству, ментальности и языку. Да и сама родина его больше не интересовала. Приведу стихи из романа „Дар“, выражающие чувства автора: „Благодарю тебя, Отчизна,/ за злую даль благодарю!/ Тобою полн, тобой не признан,/ я сам с собою говорю“.
Аристократический род Набоковых, ведущий происхождение от татарского мурзы Набока или Набука, принявшего русское подданство и крещение ещё при Иване III, в XIX столетии был пополнен немецкой кровью. Кое-как смирившись с женой Владимира Дмитриевича Еленой Ивановной (из богатейшей купеческой семьи Руковишниковых), родня Набоковых традиционно дистанцировалась от русских людей, довольствуясь общением внутри своего клана. „Англоманство семьи было абсолютное..., всё сколько-нибудь значимое произносилось по-английски или, на худой конец, по-французски“ (А.Сёмочкин, с.62). Русский язык в обиходе был спорадичен и использовался в основном для утилитарных нужд (общение с прислугой, кучером, шофёром, немногими русскими домашними учителями и гостями и т.п.). Даже обучение в петроградском Тенишевском училище почти не расширило круг его контактов с русскоговорящими людьми. По свидетельству Набокова, с детства отличавшегося замкнутым характером, на улицах города он не имел возможности поговорить с людьми, приезжая и уезжая из училища на автомобиле, а во время занятий общался с трёмя-четырьмя друзьями-одноклассниками („Другие берега“). „Его... одиночество продолжалось весь русский период жизни (до 1919 года)“ (А.Сёмочкин; с.76).
Таким образом русский язык на первых этапах жизни был для Набокова вторичным по значимости. Можно сказать, что начиная с детских лет Владимир Набоков жил на родине в условиях искусственно созданной внутренней эмиграции, что существенно мешало овладению разговорным русским языком. К его изучению Володю привлекли уже тогда, когда он свободно говорил, читал и писал по-английски и по-французски. Правда, потом был курс русской филологии в Кембридже, прочитанный от корки до корки четырёхтомный словарь Даля, годы упорного изучения русской классической литературы. Живя в Германии, он читал периодику Советской России, труды В.И.Ленина и марксисткую литературу. По словам Набокова, читал с отвращением, отвергая и её смысл, и новую лексику, и послереволюционную грамматику, как несоответствующие его представлениям о русской культуре. Несколько раз обращался к советским темам, но плохо получалось. Таким образом приобщиться к современной родной речи Набоков не мог. Да и поздно было.
Набоков сам признаёт это: „Увы, тот «дивный русский язык», который, сдавалось мне, всё ждёт меня где-то, цветёт, как верная весна за глухо запертыми воротами, от которых столько лет хранился у меня ключ, оказался несуществующим, и за воротами нет ничего, кроме обугленных пней и осенней безнадёжной дали...“ (В.Набоков. Послесловие к первому изданию „Лолиты“ на русском языке, 1965). Однако в рецензиях, отзывах и предисловиях к произведениям Набокова с удивительным постоянством отмечают достоинства русского языка, которым написаны его произведения (Ю.Анненков. Интервью газете „Последние новости“ (Париж), 12.03.1938; В.Ходасевич. Отзыв на пьесу „Человек из СССР (драматические фрагменты)“. Газета „Возрождение“ (Париж), 22.06.1938; З.Шаховская; Б.Бойд. „Владимир Набоков. Pусские годы“. М. Изд. „Независима газета“. 2001); Д.Набоков (Предисловие к кн.: „Лаура и её оригинал: фрагменты романа“. СПб. Изд. „Азбука-классика“; 2010); Г.Барабтарло („Лаура и её перевод“. В кн.: „Лаура и её оригинал: фрагменты романа “. СПб. Изд. „Азбука-классика“. 2010; с.131-189).
„Одна известнейшая наша поэтесса, встретившись с Набоковым, cтала громко восхищаться его необыкновенно чистым, прозрачным, хрустальным русским языком. (Выслушав её, Набоков – Т.Ф.), ...грустно улыбнувшись, сказал: «Ведь это – замороженная клубника»... Нельзя не признать, что в этой горькой самооценке – немалая толика истины“ (Б.Сарнов. „Расширение словесной базы“. В кн.: „Если бы Пушкин жил в наше время...“.М. Изд „Аграф“. 1998, с 442). Странным образом реплика Б.Сарнова осталась без внимания ценителей творчества Набокова. равно как и набоковская самооценка. Однако внимательное прочтение его русскоязычных произведений приводит к поразительным выводам. Чтобы быть бесспорно доказательным, необходимо привести множество примеров-выписок из его текстов. В статьях такое количество примеров справедливо считается излишним, но в данном случае они абсолютно необходимы.
В монографии о жене В.В.Набокова Вере Евсеевне С. Шифф подчеркнула, что: „Вера... автоматически исправляла орфографию (мужа – Т.Ф) и ошибки в употреблении слов. По словам Веры, Набоков, принимаясь за книгу, «был весьма невнимателен по части грамматики»“ (с.74). Действительно, в русскоязычных произведениях Набокова постоянно встречаются ошибки в орфографии и пунктуации (к примеру: „мятель“, „вафельный букет (т.е.брикет) мороженного“; многочисленные запятые даже в простых фразах), но наибольшее внимание привлекает его лексика.
По-видимому, находясь под влиянием русской классической литературы, Набоков часто употреблял устаревшие слова и выражения. Приведу несколько таких примеров. „Игнорировали отчимом“; „получил крепкий мячик в рёбра“; „готовился овладеть моей душенькой“; „кончили ли вы (прочли ли журнал – Т.Ф.) «Взгляд и вздох»?“; „женщина... с тяжёлыми ладвиями“ (т.е. бёдрами, ляжками) („Лолита“); „в понедельик Франц размахнулся“ (стал много тратить денег – Т.Ф.) („Король, дама, валет“); „пришёл на фильму“ („Камера обскура“); „ушли телефонировать“ („Весна в Фиальти“); „с крашенными вохрой стенами“ („Дар“); „фамилья“ („Другие берега“). Предположим, что автор этими словами хотел передать особенности речи действующего лица. Не мотивированные сюжетом, к тому же в ряде произведений произносимые человеком нерусским, они производят странное впечатление. Так как язык лексически, тематически, интонационно и даже орфографически постоянно обновляется, попытка применить устаревшие слова и обороты речи к описанию событий нового времени профанирует произведение.
Некоторые лексические обороты в произведениях Набокова – явные сколки с английского языка, с детских лет ему более привычного: „в тот миг, что (когда – Т.Ф.) хлынул... воздух“ („Защита Лужина“); „предъявлять... эту ужимку всякий раз, что (когда – Т.Ф.) данный персонаж появляется“; „снял свой серый халат“; „со своими подстриженными волосами“ (в русской речи притяжательные местоимения в подобных случаях опускают: принадлежность того или иного предмета конкретному персонажу сама собой разумеется – Т.Ф.); „девочки... заштепсилили ёлочку“; „буду делать восемьдесят миль без крушения“; „психотераписты“ (русск.– психотерапевты) („Лолита“); „жилистый американец – линчер“ (русск. – линчеватель) („Другие берега“); „перечитываемую штуку“ (здесь немецк. Stück – статья, пьеса.) („Дар“). Неслучайно „…в 1930-е годы, когда взошла... (В.В.Набокова – Т.Ф.) звезда, эмигрантское общество злорадно подчёркивало нерусский характер его произведений...“ (С.Шифф, с.88).
Произведеня Набокова насыщены метафорами. Порой они не укладываются в семантику русского языка. Приведу лишь малую толику таких примеров. „Я поддаюсь некоему обратному воображению“; „…девочка с наглажеными морем ногами…“ („Лолита“); „...со свечкой,... ошалевшей от того, что вынесли её ... в неизвестную ночь“ („Защита Лужина“); „душа в ней осипла“; „Франц с беззвучным стоном откидывался назад“; „сверкала текучими серьгами“; „перед глазами поплыли румяные пятна“ („Король, дама, валет“); „прижимая губы... к занавеске, я постепенно лакомился... холодным стеклом“ („Другие берега“); „в бодрый, дерзкий день“; „начала подливать к коленям кудрявая пена“ (персонаж входит в море – Т.Ф.); „дорога... гладко подливала под...“ (мчащийся автомобиль – Т.Ф.) („Камера обскура“); „разум в нём облысел“ (о старике – Т.Ф.) („Событие“); „газ не брал спичку“; „музыкально-смугло мычал“; „шкаф... раскрывался с толковым видом простака-актёра“; „возился с радио, удавляя пискунов, скрипунов“ („Дар“); „обмелевшее автоматическое перо“; „в загорелой соломенной шляпе“; „нашёл... в малопосещаемом карманчике“ („Подвиг“).
Лексика Набокова часто диссонирует с устоявшимися оборотами русского языка, а порой совершенно непонятна. Приведу несколько бросающихся в глаза примеров: „прелестные оживлённые ноги“; „она была...нимфеткой.., бежавшей на ветру“; „чуть туповато ставившей носки“ (косолапо?, широко разводя носки туфель?); „её отсталую ногу“ (стоявшую на нижней ступени?); „вернулся к своей... насмешливой норме“ (манере?); „коттедж, вперёд задержанный нами“ (забронированный?, заказанный?); „у почтового ящика, относящегося к нам“ („Лолита“); „велосипед... стоял на голове в углу“ (вверх колёсами?); „отец ничего не смел против его непроницаемой хмурости“; „эти сквозные звуки странно преображались в его полусне“; „с раннего детства любил привычку“; „...окно спальни, из него-то высунулся этот шёпот“; „Лужин нашёл (картинку – Т.Ф.) аккуратно прибитой кнопками к внутренней стороне партовой крышки“; „это не играет значения“; „в Берлине всегда возня с выпусканиями“ (паспортный контроль?, таможенный осмотр?); „ему отвратительно неприятно“, „надув шею, зевает“ (напрягая мышцы шеи? Зевая, „надуть“ шею невозможно); „продолжал потаптывать платком по мокрой скатерти“ (промокать платком?); „мячики для мелкой лупни в пинг-понг“; „перед глазами в сравнительной темноте“; „Франц прикупил к своему билету дополнительный чин“ (доплатил за билет в вагон более высокого класса?); „Франц... слушал гладкую быстроту“ (шуршание шин автомобиля?); „поспешно кокал ложечкой по яйцу“; „Франц, у которого юмор был туговат“; „сказал доктор, вея мимо“ (пробегая?); „клоун мягко ухал по сцене“ (прыгал?, охал?); „оставил оглушённый стол“ (грязный?, неубранный?); „дыхание дошло до шестидесяти движений в минуту“ („Король, дама, валет“); „нос... облегчает... приёмом зажима и стряха“; „прочая симметрия... притягивала мой карандаш“ (асимметрия лица гувернантки?.) („Другие берега“); „поймать кузнечиков в руку“; „захлопнула ему дверь в лицo“; „друг в друга шарахали... водой“; „старушку совершенно замял и растоптал“ (морально подавил?, раздавил?) („Камера обскура“); „подвержен угловым болям“ (болям при наклонах туловища?) („Волшебник“); „литература...становилась... срединной“; „мы преувеличенно поздоровались, стараясь побольше втиснуть“ (стиснуть друг друга в обятиях?) („Весна в Фиальти“); „держала (грудного ребёнка – Т.Ф.) в ожидании рыжка“; „промахивает... поезд“; „в один смутно прекрасный вечер“; „не скопивший... жизненных драгоценностей“; „боялся слишком точно рассматривать“(пристально?); „Колдунов на него наплывал без слов“ (молча наваливался?, подминал под себя во время борьбы?) („Лик“); „предлагают сажать телеграфные столбы“ (устанавливать?) („Порт“); „в опустошительные книги качнулся я“ (драма „Смерть“); „нет прикрас никаких у решётки“ (украшений?) (стихотворение „Ульдаборг“); „спокойным играм мы... предпочитали потные...“ (подвижные?, утомительные?) („Дар“); „вверх по стволам (деревьев – Т. Ф.) взлизывали длинные травы“ („Слово“).
Нередко слова и словосочетания, упоребляемые Набоковым, неприемлемы в русской литературной речи. Похоже, что некоторых обиходных слов он просто не знал. Приведу примеры, одни комментируя, а другие предлагая истолковать читателю. „Я последовал за ним... тройным кенгуровым прыжком, оставаясь стойком при каждом скачке“); „заканчивает затаптывать свою жену под воду“ (т.е. топить); „как оно оказалось на первый вздрог“ (поначалу, сперва, в первое мгновение); „...сопровождая извиваниями губ“ (кривя губы); „вы здорово лупите“ (т.е. быстро ездите – Т.Ф.); „скорость изнашивалась“ (т.е. уменьшалась); наши голоса затоплял звонивший... телефон“ („Лолита“); „по мере того, как расходился автомобиль“ (набирал скорость, разгонялся) („Защита Лужина“); „лежал..., уткнувшись боком в скалу“ („Звонок“); „палки для хоккея“ (клюшки); „большущее фиолетовое пятно на толстой плечевине“ (синяк на плече); „мелькали неверные глаза“ (о неуверенных в себе людях); „…плоских саночек, предназначенных мускулистому животу“; „со склизким шорохом стала вылезать из трико (мокрого после купания – Т,Ф.) “; „проводи меня кусочек“ („Король, дама, валет“); „инеистое дерево“; „сыздетства“ (сызмальства); „отраду нахожу в личных молниях“ (озарениях); „целулоидовый воротничок“; „там, в приютном углу ждала меня Тамара“; „толстомордые колледжевые швейцары“; „...с возрастом (туловище становится – Т.Ф.) тяжёлым и смутно-уродливым в очерке евнушьих бёдер“; „перо-самотёк“ (авторучка) („Другие берега“); „cкоро она обтянулась“ (располнела, отъелась); „он почувствовал полегчание“; „это нервило её“ („Камера обскура“); „пришло несколько кофейниц“ (любительниц кофе, кофеманок); „в ходячем образе слова“ (расхожем) („Волшебник“); „продавец... сластён“ (т.е. сластей. Сластёна /разг./ – любитель сладкого, сладкоежка) („Весна в Фиальти“); „забавные запястья“ (имеются ввиду браслеты) („Лик“); „служил лакеем в столовой германского экспресса“ (т.е. официантом в вагоне-ресторане) („Случайность“); „фиксирует эскиз из выдувного флакона“ (пульверизатора) (драма „Событие“); „переварить кабанью головизну“ (стихотворение „Шекспир“); „сквозными крыльями восторженно всплеснёт“ (стихотворение „Эфемеры“); „через миг колёса раскачнулись“ (стихотворение „Экспресс“); „вывеска подвальной угольни“ (кочегарки или склада угля в подвале); „няня борется с увалистой и валкой камышовой ширмой“ (неустойчивой); „составной дух мороза, пота и мастики“; „взнашивая вёдра“ (т.е.нeся наверх); „сдерживает шаг до шляния“; „в горле стоял кубик“ (комок); „великолепный, но совершенно недоходный лоб (о глупом человеке)“; „граживали“ (угрожали, грозили); „пишу зря, промахиваясь словесно“; „узость боков“ (о фигуре женщины); „скорой походкой на пуговках“ (на пальцах ног, на цыпочках); „почему ты окислился?“ (скуксился); „он подразумно знал“ (подспудно); „подтравная речь“ (приглушенная, двусмысленная, обиняками), „летел дождь“; „...полицейским, уже вконец почерневшим и свалявшимся от мокpоты“ (т.е. промокшим насквозь под дождём); „сопутствуемая путающимся в своих полах ветром, процессия...“ (т.е. порывы ветра трепали одежду идущих людей); „работал на месте автомобиль“; „рифмы... сложились... в систему... картотечного порядка“; „мышление... неуимчиво“ („Дар“); „круглый родимый прыщ у ноздри“ (родинка); „действовало неотразимо, разымчиво“ (располагающе); „болванка шоколада в... обёртке“; „писала..., быстро виляя карандашом по странице“ („Подвиг“).
Количество аграмматизмов у Набокова ошеломляюще велико. Они встречаются во всех его русскоязычных сочинениях. По-видимому, он местами пытался стилизовать свои фразы под русский разговорный язык, то и дело ошибаясь. Собрать все ошибки в произведениях, написанных им по-русски или переведенных им на русский язык, в настоящей статье невозможно. Но именно они, бьющие в глаз погрешности в русском языке, были одной из причин моего невосторженного отношения к творчеству Набокова.
Примечательно высказывание Левина о лексике Набокова: „Как определить принадлежность писателя к той или иной культуре и национальной литературе?... Конечно же по языку… Чтобы создать оригинальное литературное произведение, мало в совершенстве знать язык. Мало говорить, писать, думать на этом языке, желательно ещё говорить, писать и думать именно так, как делают люди с рождения воспитывавшиеся в данной языковой среде и культуре“ (с.345). Возникает вопрос: может ли большой талантливый писатель В.В.Набоков с полным правом считаться русским писателем?
Приведенная выборка из написанных русским языком произведений В.В.Набокова показывает, что русский по происхождению литератор Набоков не знал русского языка в той мере, в какой должен его знать русскоязычный писатель. Он владел русским языком, как иностранец, посвятивший много времени его изучению, но так и не овладевший им в полной мере, или как эмигрант, на протяжении своей жизни и, что особенно важно, в детские годы мало общавшийся с носителями языка.
Творчество Набокова явственно предупреждает о возможной утрате русского языка, поджидающей детей русскоговорящих эмигрантов уже в первом поколении и, тем более, в последующих генерациях. Жаль, очень жаль!